| Редакция
| Авторы | Форум
| Гостевая книга |
Текущий номер |
Борис Бернштейн
Фрагменты о Тайбере
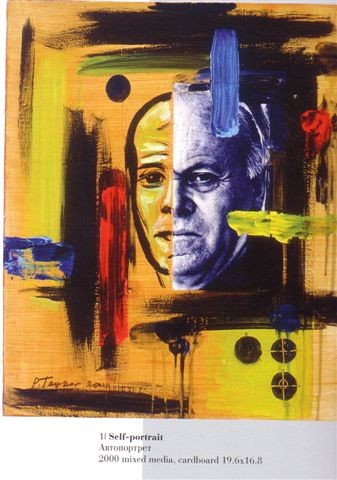 Среди
картин Павла Тайбера я не встречал портретов. Исключение составляют автопортреты.
Но они не совсем из портретного ряда и, как кажется, их породила другая
необходимость.
Среди
картин Павла Тайбера я не встречал портретов. Исключение составляют автопортреты.
Но они не совсем из портретного ряда и, как кажется, их породила другая
необходимость.
Ни один из известных мне автопортретов не написан просто, "в упор".
Однажды Павел Тайбер, взрослый, написал себя мальчиком, - это было воспоминание
о прошлом, другой раз, опережая время, - после смерти, в гробу, картина
называется: "Воспоминание о будущем". В 1988 г. он изобразил себя
в шутовском колпаке, а не так давно - каторжником палитры… Конечно, портреты
похожи на написавшего, но их смысл куда больше сходств - все это метафоры.
Через них Тайбер - как умеет, т.е. как живописец, - осознает себя, образно
проживает свое место в мире, свою судьбу.
Сумрачным, в рембрандтовском освещении, написал себя Павел Тайбер в "шутовском"
автопортрете. Неоднократно обыгранный трагикомизм роли шута получает особые
обертоны, если образ погрузить в контекст. Большую часть своей жизни Тайбер
был (назовем это условным историческим термином) советским художником. Это
означает, что он был поставлен перед хорошо известным нравственным выбором.
Когда он оказался на Западе, выяснилось, что там, если опустить существенные
тонкости, искусство отделено от нравственности и нравственность от искусства,
таков общий принцип; при этом быть "плохим мальчиком" не заказано
и даже полезно. Но там, дома, художник не мог уйти от нравственной дилеммы;
он был не по своей воле заброшен в ситуацию несвободы, принудительного сотрудничества
с властью, которая предписывала стилистику и требовала бестыдной и лакейской
лжи. Теперь это уже история, и все знают о спектре выборов, предложенных
реалиями места и времени: от циничного ремесла по правилам социалистического
реализма - со всеми выгодами, которые дарил в этом случае реальный социализм,
и до ухода в подполье, underground, со всеми угрозами, какие таила в себе
такая игра с одряхлевшей, но все еще грозной системой. Личную судьбу надо
было выстраивать между этими полюсами. Метафора шута играет смыслами - королевский
дурак, как известно, развлекает, забавляет, но ему же дарована трудная привилегия
- говорить правду в глаза. Павел Тайбер, оглядываясь назад, спрашивал себя,
а вернее - спрашивал с себя.
Были ли у него причины для неудовлетворенности?
Рассматривая репродукции некоторых его ранних работ, я узнаю в них знакомые,
неоднократно виденные опыты "ненаказуемого неучастия", мягкого
уклонения от доктринальной колеи. Такой ход можно было найти и в других
местах, начиная с шестидесятых годов; условно его можно было бы обозначить
как "национально-романтический": мотивы современной или прошедшей
народной жизни, стилизованные в духе фольклора или старинных художественных
традиций. Здесь Тайбер задержался ненадолго.
 Далее в поле
требовательного зрения Тайбера-шута оказывается большой массив картин -
главное, что он создавал на родине и чем стал известен. Многие годы он будет
писать детей - персонализированный, каждый раз наново переживаемый мир детства.
Вот почему ключевой метафорой этой творческой поры может быть "Автопортрет
с будильником". Изобразив себя мальчуганом, художник разоблачил собственный
секрет: маленький Тайбер подобен многим и многим мальчишкам, которые заполнят
его картины, автор и персонаж совмещаются.
Далее в поле
требовательного зрения Тайбера-шута оказывается большой массив картин -
главное, что он создавал на родине и чем стал известен. Многие годы он будет
писать детей - персонализированный, каждый раз наново переживаемый мир детства.
Вот почему ключевой метафорой этой творческой поры может быть "Автопортрет
с будильником". Изобразив себя мальчуганом, художник разоблачил собственный
секрет: маленький Тайбер подобен многим и многим мальчишкам, которые заполнят
его картины, автор и персонаж совмещаются.
При словах "память о детстве" и "навязчивое повторение мотива"
фрейдисты должны, по выражению Набокова, тотчас же навострить уши. Но я
уверен, что психоаналитику здесь делать нечего. Никаких комплексов, только
утверждение позиции и обнажение метода. В контексте "украинского советского
искусства" того времени это была декларация независимости, не скажу
- героическая, но требовавшая мужества. Это все о контексте, пока что он
нам больше не интересен. Интересен метод.
Вселенная детства, какой ее изображал Тайбер, имела мало общего с бытовым
"детским жанром", немногие реалии никого не должны вводить в заблуждение.
Вспоминаемая и воображаемая одновременно, она выстраивалась вокруг немногих
ситуаций, исполнить которые было поручено похожим друг на друга персонажам,
- похожим иногда до неразличимости. Индивидуальный характер, портретность,
психологизм - качества в общем чуждые этому ряду картин, не потому, что
художник не умеет, но лишь потому, что они находятся за пределами его живописной
концепции. В сущности, один мальчик, круглолицый и круглоглазый, с круглым
румянцем на щеках, в бумажной треуголке, стается постоянным героем цикла,
другие иногда дополняют его и лишь изредка вытесняют за пределы сцены. Он
подобен переходящему из сказки в сказку персонажу с постоянной функцией,
- тем более, что сюжеты картин близки друг другу.
Пока мы говорим о сюжетах, детство, каким его представлял Тайбер, это мир
воображения, которое полнее всего реализует себя в игре, а квинтэссенция
игры - театр. Весь детский цикл Тайбера насквозь театрален, это театр в
квадрате. Его дети "внутри картины" непрерывно переодеваются,
перевоплощаются, играют в театр, устраивают театр, смотрят театр, не зная
того, что знаем мы, а именно: что сами они - актеры, бибабо, марионетки
в театре Павла Тайбера. Его главный мальчик - любимый актер на роль мальчика,
лучшая кукла из коллекции, всегда обаятельная в свoей экспрессии, затеях,
движениях, представлениях, в своей задумчивости, грусти, мечтах, в своей
неразгаданности.
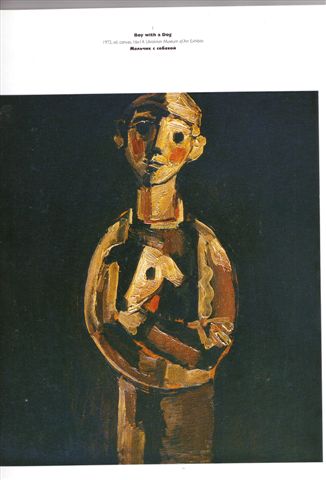 Конечно, в постоянстве
персонажей подтверждает себя постоянство памяти. Но это еще и прием: неизменяемость
персонажей делает нас особенно чувствительными к тому, что в картине - не
персонажи. Близость сюжетов делает заметными их вариантные изгибы и разнообразие
композиционной режиссуры. Наконец - и тут мы подходим к центральному нерву
- ограниченность предметного поля компенсируется многоликостью собственно
живописи, чья чуткая изменчивость, в рамках наиболее общих и узнаваемых
"тайберовских" констант, составляет сквозную интригу всего многолетнего
"детского" цикла.
Конечно, в постоянстве
персонажей подтверждает себя постоянство памяти. Но это еще и прием: неизменяемость
персонажей делает нас особенно чувствительными к тому, что в картине - не
персонажи. Близость сюжетов делает заметными их вариантные изгибы и разнообразие
композиционной режиссуры. Наконец - и тут мы подходим к центральному нерву
- ограниченность предметного поля компенсируется многоликостью собственно
живописи, чья чуткая изменчивость, в рамках наиболее общих и узнаваемых
"тайберовских" констант, составляет сквозную интригу всего многолетнего
"детского" цикла.
Павел Тайбер в то время - уже в то время, прошу запомнить - не был озабочен
монолитностью стилистики; кажется, что единство принципа было для него дороже
однородной живописной манеры. Приемы наложения краски менялись не только
от картины к картине, но состязались, контрастируя и дополняя друг друга,
в пределах одного полотна: ровные, простые плоскости, внятно моделирующие
объемы, сочетались с сочными завихрениями красочной материи, нанесенной
темпераментным движением кисти, и тревожными вибрациями частых, нервных
мазков. Ритмы красочного рельефа, увлекательные сами по себе, включались
в колористическую партитуру, которая, в сущности, определяла характер, нет,
скажем сильнее, - общий смысл картины. Один и тот же мальчуган, написанный
в иной манере и погруженный в иную цветовую среду, становился другим мальчуганом,
живущим невиданной прежде жизнью. Скажем так: картины детского цикла могли
бы показаться до известной степени монотонными, суровый блюститель вкуса
мог бы заподозрить излишек чувствительности - но только в тоновых репродукциях;
как только появляется цвет, все становится на свои места. Мастер распоряжается
своим медиумом в широком диапазоне, свободно и уверенно.
Вероятно, неограниченное богатство возможностей, которые художник находил
в избранной им - и сотворенной им - нише, побудило его поверить, что тут
его судьба. Знак этой веры - трогательный и странный, настоянный на жутковатой
макабрической иронии, но в любом случае нетривиальный автопортрет в гробу.
"Впоследствии покойного" Тайбера, как видим, окружают все те же
круглоглазые мальчуганы и девчонки в бумажных треуголках и колпаках, длинномордая
собачка, которую эти мальчики любили держать на руках… Они сопровождали
его всю жизнь и они остались, когда его не стало; они - его "вторая
жизнь", если воспользоваться выражением Вазари. Картина называется
"Воспоминание о будущем"; как и другие прогностические воспоминания,
онa была ошибкой. Непредвидимое будущее оказалось совсем иным.
*
Знаком этого будущего, уже наступившего, можно счесть автпортрет 1995 г.
- года, когда Павел Тайбер перебрался в Калифорнию. Перебрался? Эмигрировал?
Был перенесен? Пересажен? Вряд ли он сам сумел бы выбрать нужное слово.
Но это двойное перемещение, смена географического и социокультурного места,
оказалось переломным рубежом, вернее - кризисом, полным трагического напряжения.
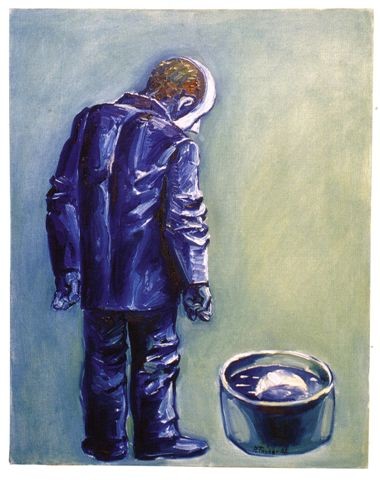 Там, на родине,
он, вместе со своим искусством, был включен в сложившующся систему отношений,
пусть дурную, но уже привычную. К ней пришлось и удалось как-то адаптироваться
и, выстраивая себя, проложить собственную тропу. Даже художник-диссидент
имел свое место в этом упорядоченном пространстве и связанный с ним статус,
зарубежное имя и славу - этим местом было "подполье", верно переименованное
в "андеграунд". Но даже художникам-диссидентам не всегда удавалось
без компромиссов приспособиться к правилам западного мира искусства - или
не удавалось вовсе. Павел Тайбер не был соучастником, но не был и полным
диссидентом, а здесь он оказался один на один с непривычной и не во всем
понятной средой. Все было иначе, сама география, какой она оборачивается
для глаза, требовала ревизовать сложившиеся принципы и приемы колоризма
- другой свет, другие краски, другая звучность цвета непреложно требовали
другого письма. Наконец, самое главное - здесь у искусства живописи была
другая история, которая живущими в Америке была реально прожита и пережита,
тогда как у нас поколение Тайбера получало о ней лишь искаженные и отрывочные
известия. В стране победившего соцреализма метаморфозы авангарда если и
проходились, то главным образом логически, как сказал бы знаменитый философ.
Знание "со слов" надо было сделать своим, сделать фактом собственной
духовной биографии, хотя бы в качестве квазибиографии, проделанной интеллектом
и запоздалым опытом.
Там, на родине,
он, вместе со своим искусством, был включен в сложившующся систему отношений,
пусть дурную, но уже привычную. К ней пришлось и удалось как-то адаптироваться
и, выстраивая себя, проложить собственную тропу. Даже художник-диссидент
имел свое место в этом упорядоченном пространстве и связанный с ним статус,
зарубежное имя и славу - этим местом было "подполье", верно переименованное
в "андеграунд". Но даже художникам-диссидентам не всегда удавалось
без компромиссов приспособиться к правилам западного мира искусства - или
не удавалось вовсе. Павел Тайбер не был соучастником, но не был и полным
диссидентом, а здесь он оказался один на один с непривычной и не во всем
понятной средой. Все было иначе, сама география, какой она оборачивается
для глаза, требовала ревизовать сложившиеся принципы и приемы колоризма
- другой свет, другие краски, другая звучность цвета непреложно требовали
другого письма. Наконец, самое главное - здесь у искусства живописи была
другая история, которая живущими в Америке была реально прожита и пережита,
тогда как у нас поколение Тайбера получало о ней лишь искаженные и отрывочные
известия. В стране победившего соцреализма метаморфозы авангарда если и
проходились, то главным образом логически, как сказал бы знаменитый философ.
Знание "со слов" надо было сделать своим, сделать фактом собственной
духовной биографии, хотя бы в качестве квазибиографии, проделанной интеллектом
и запоздалым опытом.
Все это как нерешаемую проблему можно прочесть в автопортрете 1995 года.
Я вижу в нем, во-первых, внешний след одной из самых влиятельных фаз, если
угодно, одной из кульминаций авангардизма - абстрактного экспрессионизма,
чьей сверхцелью было устранение из живописи всего, что может напоминать
о других медиумах, так что на ее долю оставались красочные плоскости, мазки
- след касания кисти, красочный рельеф, фактура носителя красочного слоя.
Картина не должна была обозначать ничего, кроме самой себя; именно так определял
программу очищения искусства живописи от посторонних примесей самый последовательный
ее гуру - Климент Гринберг. Эти принципы по-своему присутствуют в автопортрете:
носитель красочного слоя, холст, явился вторично, поверх основного холста,
и громогласно заявил о своих пластических правах. Скомканный и раскрашенный,
он стал многоголосным цветным рельефом, чьи волны сбегаются к некоторой
вершине, тогда как окружающие мазки завихряются в нервных ритмах, подчиненных
очертаниям доминирующего пятна. Тем не менее, картина столько же напоминает
о принципах гринбергианской доктрины, сколько и опровергает их: она сохраняет
избразительность и насыщена символическими значениями. Такое сведение крайностей,
парадоксальное соединение разнородных элементов - вплоть до образных оксюморонов
- само по себе обещает нового Тайбера. Но прежде следует проследить символические
перспективы картины. Скомканная кверху ткань образует условное, но хорошо
различимое пятно - своего рода живописный плащ, окутывающий фигуру автора
(напоминаю, мы разглядываем автопортрет). 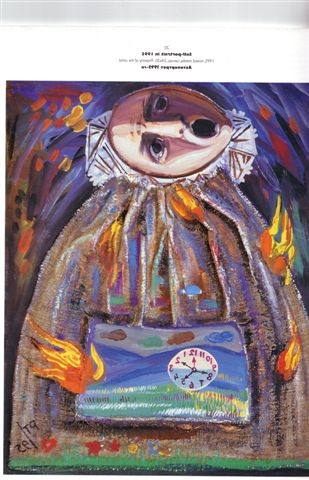 Зрительная
логика плаща разбита малой "картиной в картине", где узнаваемый
пейзаж ближайших калифорнийских мест - вот где происходит дело ! - перебит
плоскостью циферблата; бергмановские знаменитые часы без стрелок здесь трансформированы
в часы со множеством равноправных стрелок, главной нет: время распалось
на множество времен, сделав невозможным определение себя во времени: герой
попал в пространство без личного времени, он знает, где он, но не знает
- когда, единство и непрерывность внутреннего, психологического времени
разбиты, расчленены, растерзаны. Вспомните автопортрет в детстве - там будильник
показывал время.
Зрительная
логика плаща разбита малой "картиной в картине", где узнаваемый
пейзаж ближайших калифорнийских мест - вот где происходит дело ! - перебит
плоскостью циферблата; бергмановские знаменитые часы без стрелок здесь трансформированы
в часы со множеством равноправных стрелок, главной нет: время распалось
на множество времен, сделав невозможным определение себя во времени: герой
попал в пространство без личного времени, он знает, где он, но не знает
- когда, единство и непрерывность внутреннего, психологического времени
разбиты, расчленены, растерзаны. Вспомните автопортрет в детстве - там будильник
показывал время.
Главные ритмы композиции неумолимо ведут к средоточию портрета - лицу. Оно
поставлено под невозможным анатомически прямым углом к воображаемому позвоночнику;
экспрессивный прием, восходящий к известным образцам - мы можем найти его
на старых иконах или на романских порталах с изображениями Страшного суда
- но доведенный тут до крайнего напряжения, до крика. Вопиющая деформация
дополнена и усилена прямым изображением - лицо искажено гримасой страдания,
рот открыт в крике. Лицо, впрочем, само по себе двусмысленно, то ли это
лицо, то ли трагическая маска, но если маска, то приросшая к лицу настолько,
что повторяет его черты. Резкие и угловатые графические кружева, окружающие
голову, скорей всего могут быть приняты за воротник клоуна, шута - лейтмотив,
который отсылает к старому автопортрету, вместе с ореолом его коннотаций.
Еще один парадокс: все это организовано в классическую по простоте и равновесию
композицию. Общие очертания напоминают хрестоматийные фронтальные портреты
- хоть бы автопортрет Дюрера 1500 г., где художник изображен христоподобным,
или даже Мону Лизу, - но с той разницей, что там за силуэтом фигуры развертывается
пейзаж, тогда как здесь - тревожная дробь мазков, а трехмерное пространстство
пейзажа пробивает переднюю плоскость фигуры. Другое значимое отличие - над
вывернутой головой нет места для ее возвращения в нормальное положение,
она навсегда зафиксирована, зажата опущенной до упора рамой.
Теперь пора обратить внимание на языки пламени, перебегающие по плащу.
…Современный философ однажды заметил: отношение языка к живописи является
бесконечным отношением; они несводимы друг к другу; сколько бы мы не называли
видимое, оно никогда не умещается в названном. Пора прервать пересказ, который
никогда не может быть закончен; ясно, что автопортрет 1995 года - произведение
глубоко трагическое, воплотившее экзистенциальную потерянность художника
перед лицом чужой и чуждой ситуации.
Однако, интерпретируя его из будущего, зная задним числом, что наступит,
можно открыть в этой картине еще одну грань, некий скрытый свет. Автопортрет
-выплеснутое на холст переживание труднейшего кризиса. Конечно, образ "проклятого
поэта", голодного "мансардного художника" как полезной необходимости
остался в архиве романтических стереотипов XIX века. Тем не менее, жестокость
творческой психологии иногда проявляет себя в непредсказуемых следствиях
жизненых драм. Травма пересадки в другую почву, точней - травма невозможности
в ней укорениться, сняла автоматизированные внутренние ограничения и открыла
глубоко упрятанные творческие потенции, которые, возможно, не получили бы
выхода при ином повороте событий. В этом смысле автопортрет открывал перспективу,
намечал пока еще колеблющийся силуэт неизвестного Тайбера.
*
Первым признаком этого новейшего периода я бы назвал исповедную открытость.
Многое в его живописи последних лет можно читать как хронику событий внутренней
жизни, как образную осциллограмму душевных состояний. Предварительным -
и щемящим - опытом такого высказывания был, на мой взгляд, спонтанно возникший,
деланный, безусловно, для себя небольшой альбом 1996 года.
Этому альбому сам художник то ли не придавал значения, то ли счел его слишком
интимным и потому не подлежащим экспонированию. Действительно, я понимаю,
в те часы, когда на чистые листы ложились рядом и перекрывая друг друга
мазки акварели, перовые рисунки, вписанные от руки стихотворные фрагменты
и обрывки газет, он вел свой дневник - дневник не репортера, но живописца,
и потому дневник образов без дней. "День был без числа". Я привожу
эту цитату не по смежности, но умышленно: "записи", как и автопортрет,
сделаны в момент острейшего духовного кризиса, в первые месяцы после переселения
живописца из Харькова, Украина, в Калифорнию, США; по существу - в другую
цивилизацию. Разглядывание этих листов иногда граничит с подглядыванием.
Но прошло время, и листы, куда Павел Тайбер избывал внутренние напряжения,
остыли, чтобы стать искусством.
 Первым требует
к себе внимания соблазнительное соседство написанных текстов и изображений.
В последние десятилетия теоретики семиотического направления потратили много
сил на доказательство родства, если не тождества, между образом и словом.
Тем не менее, прирожденные различия остаются.
Первым требует
к себе внимания соблазнительное соседство написанных текстов и изображений.
В последние десятилетия теоретики семиотического направления потратили много
сил на доказательство родства, если не тождества, между образом и словом.
Тем не менее, прирожденные различия остаются.
Надпись существует как плоские начертания на плоскости листа, изображение
эту плоскость съедает, создавая иллюзию трехмерного мира. Живописец об этом
знает лучше, чем кто-нибудь другой - и вот, Павел Тайбер играя с этим противоречием,
выстраивал в пределах листа целую гамму отношений. Ради поддержания диалога
его живопись здесь оперировала главным образом силуэтами: цветные тени фигур
и вещей, то полупрозрачные, то набухающие красочной материей, намекают на
возможность об'емов, тогда как надписи на фоне цветного пространства кажутся
взлетевшими над плоскостью. В эту полифонию рукописи и живописи включается
перовой рисунок - посредник, общий родственник, столько же письмо, сколько
картинка. Написанное слово абстрактно - в противоположность чувственному
живописному образу; рисунок абстрагируется от цвета и абстрагирует форму
линией, но все еще подобен предмету, вот почему он посередине. Чтобы мы
могли оценить эти сложные и хрупкие гармонии, художник иногда вводит в композицию
листа пограничные элементы - вполне двухмерные обрывки газеты или иллюзорно
объемную фотографию; своей категорической чужеродностью они дают нам почувствовать,
между чем и чем разыгрывается деликатная драма плоскости и пространства.
Слова, вписанные в рисунки-картины альбома, взяты у великих русских поэтов:
Бродский, Мандельштам, Пастернак. Только одно из стихотворений вписано в
композицию полностью, остальные - фрагменты, две-четыре строки, пол строки...
Выбор стихотворения, приведенного целиком, прозрачно ясен; оно пересекается
с биографическими обстоятельствами самого Тайбера.
Воротишься на родину. Ну что ж,
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
К кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься, купи себе на ужин
Какого-нибудь слабого вина,
Смотри в окно и думай понемногу:
Во всем твоя, одна твоя вина.
Фон, на котором записаны стихи, с живописными пятнами фантастических цветов
- почти обои; в середине листа плоскость разрезана прямоугольной рамой,
за которой открывается даль; то ли картина на стене, то ли окно. Скорей
всего окно: оно помещено между строками "какого-нибудь слабого вина"
и "смотри в окно...", только за окном - узнаваемые калифорнийские
холмы. Впрочем, никакой мотив здесь не должен быть истолкован прямоличейно,
холмы могут быть и украинские, а обрамленный прямоугольник верней назвать
"картина/окно", выход памяти из замкнутого пространства в третье
измерение. Если хотите, вы можете найти ключ на другом листе альбома, там
где написано:
"Чужбина так же сродственна отчизне,
Как тупику соседствует пространство."
Но там нет ни тупика, ни пространства, только большие сипуэты тюльпанов,
маленькие силуэты пальм да пересекающие их широкие волнистые полосы; зато
еще много других стихотворных отрывков, которые напрашиваются на чтение,
которое не предусматривает специальной эрудиции. Вы вправе не помнить, откуда
взяты строки, даже напротив - фрагмент неожиданно оказывается законченным,
замкнутым в себе и самодостаточным, а потому способным войти, как самостоятельный
мотив в полифонию нового целого. Некоторые тексты подвергнуты простым превращениям:
одни и те же строки, повторенные двжды, трижды на одном листе, как эхо,
словно забывают о своем происхождении и остаются чистым знаком душевного
состояния.
"Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели."
Тут же, по другую сторону темных размытых силуэтов пальм, монотонными вертикалями
выписаны ключевые слова, отозвавшиеся неотвязным, бесконечным эхом в душе
художника.
бремя
бремя
бремя
...
бремя вечеров
бремя вечеров
бремя вечеров
...
вечеров
вечеров
вечеров
...
Отношения между стихотворными фрагментами и рисунками черзвычайно хрупки
и неоднозначны. Можно искать прямые или закодированные связи, но лучше довериться
причудливой алогичности текстовых и образных смыслов, их неожиданным ассоциативным
сближениям и безнадежным расхождениям, оставляя без плоских и окончательных
толкований их странные гармонии и их трагическую недосказанность.
"...У тех, кто является любимцем небес, - писал старинный мыслитель
- самые большие горести превращаются в столь же великие блага." Мыслитель
знал, о чем писал; его звали Джордано Бруно. В нашем случае с любовью небес
не все ясно, но их участие можно предположить: превращение произошло, переживания
больше нет, остался эстетический след переживания, художество.
*
Когда Тайбер вернулся к живописи, его мальчишкам
и девчушкам все еще было отведено важное место. Но роли изменились радикально.
Прямое изображение сюжета, пусть сочиненного и театрализованного, уступило
место внелитературной, зрительной метафоре. Мальчики в знакомых треуголках
с птичьими клетками, где заблудились облака, или однокий в своем живописном
пространстве мальчуган, примеряющий корону, покинули, видимо, навсегда,
свою безмятежно игровую родину. Когда же картине "Прощай XX век",
на фоне гигантских поминальных свечей, знакомая нам по другим картинам карнавальная
вереница движется куда-то мимо, грозя уйти за кадр, то кажется, будто, расставаясь
с веком, художник расстается и со своей ретроутопией детства.
Параллельно с этими трансформированными отблесками прежнего и после них…
Тут наблюдатель останавливается в задумчивости. Профессиональный навык требует
классификации. Новый облик художника следует поместить в ту или рубрику
таблицы стилей, направлений, авангардов, посредством которой, с грехом пополам,
упорядочивается наследие ушедшего века. Но для Тайбера я такой рубрики найти
не могу. Впрочем, одна из них, рубрика без границ, рубрика, смешавшая все
рубрики, кажется, заслуживает обсуждения. Может быть, Тайбер стал стихийным
постмодернистом?
Действительно, когда пишущий эти строки впервые увидел картины Павла, где
образы собственные, т.е. образы, относящиеся к прямой речи, перемешивались
с открытыми или завуалированными цитатами, по большей части - из хорошо
известных картин, трудно было не вспомнить известное объяснение, данное
постмодернизму Умберто Эко во времена его, постмодернизма, раннего цветения.
Он очень наглядно описал ситуацию, в которую мы попали; вот она - в свободном
пересказе. Вообразите себе двух интеллигентных людей, мужчину и женщину.
Ему хочется сказать ей простую вещь: "Люблю тебя безумно". Но
он знает, что эти слова уже говорил персонаж - ну, неважно чей, важно, что
они множество раз сказаны и затерты; и она это знает, и он знает, что она
это знает, и он знает, что она знает, что он знает… Это знание поражает
немотой обоих, а объясниться необходимо. Остается единственный выход - повторить
то же, иронически отделив себя от говоривших это ранее: "По выражению
такого-то романиста, я вас люблю безумно…" В объяснение введен момент
игры с необъятной и заполненной до краев памятью культуры, но это не значит,
что чувство осталось не высказанным. "Он... прямо показывает ей, что
не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до
ее сведения то, что собирался довести, - то есть что он любит ее, но что
его любовь живет в эпоху утраченной простоты. (У.Эко. Заметки на полях "Имени
розы")
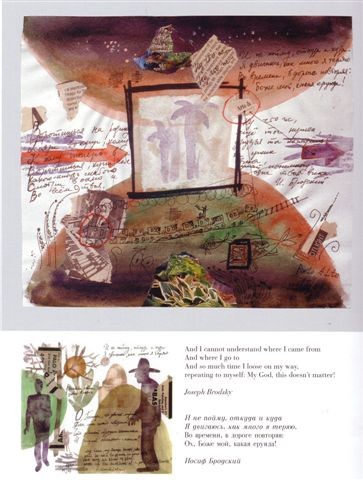 В целой серии
картин Тайбер откровенно обнажал принцип "как сказал бы…", вводя
в картину чужие фрагменты, сталкивая их друг с другом, перемежая их собственными
видениями, коллажными включениями, в том числе и газетных обрывков, вписанными
от руки стихами, тоже чужими, и творя таким образом новые смыслы. Это, разумеется,
не кража (о каком тайном заимствовании может итти речь во времена, когда
всё репродуцировано, размножено, спародировано?), а преднамеренная реорганизация
образных структур, высокая игра. К тому же, затейливое использование не
своих текстов отвечало и другому условию постмодернизма, сформулированному
некогда Чарлзом Дженксом, а именно: использованию двойного кода, одного,
эзотерического, для посвященных, и другого, общепонятного - для остальных.
В целой серии
картин Тайбер откровенно обнажал принцип "как сказал бы…", вводя
в картину чужие фрагменты, сталкивая их друг с другом, перемежая их собственными
видениями, коллажными включениями, в том числе и газетных обрывков, вписанными
от руки стихами, тоже чужими, и творя таким образом новые смыслы. Это, разумеется,
не кража (о каком тайном заимствовании может итти речь во времена, когда
всё репродуцировано, размножено, спародировано?), а преднамеренная реорганизация
образных структур, высокая игра. К тому же, затейливое использование не
своих текстов отвечало и другому условию постмодернизма, сформулированному
некогда Чарлзом Дженксом, а именно: использованию двойного кода, одного,
эзотерического, для посвященных, и другого, общепонятного - для остальных.
Есть, однако, какое-то препятствие, не позволяющее отнести работы этого
типа к постмодернистскому типу без оговорок. Принцип (или прием) "как
сказал бы…" заключает в себе ироническое дистанцирование от приводимого
текста или образа. Сказать, что этого рода ирония вовсе отсутствует в картинах
Тайбера, было бы неверно. Веселая отсылка к Рене Магритту в "Осеннем
мираже" и есть как раз такое вот отчужденно-ироническое цитирование:
"а вот в магриттовские пустые внутри женские торсы мы сейчас вставим
пышные букеты". Но в общем, если можно говорить об иронии, то это не
столько холодная интеллектуальная постмодернистская ирония, сколько высокая
романтическая ирония; на место Дженкса скорее надо бы поставить Фридриха
Шлегеля с его пониманием иронии как "красоты в сфере логического".
Это он говорил о поэтических созданиях, проникнутых дыханием иронии, где
"живет дух подлинно трансцендентальной буффонады". Трансцендентальная
буффонада - тут я бы сделал ударение на слове "трансцендентальная"
- парадоксальным образом преобразованная в зрительные образы, играет в картинах
этого периода. Если, как писал тот же Шлегель, "все во всем",
то возможно разорвать на полосы сцену распятия, взятую у Паоло Веронезе,
и соединить ее с фрагментированными образами и символами нашего времени,
чтобы напомнить о печальной повторяемости вещей "под солнцем".
Можно пригласить на живописный завтрак Мону Лизу; можно размышлять рядом
с рембрандтовской Вирсавией, которая, будучи вырвана из контекста, освобожденная
из плена библейской ситуации, получила здесь другой смысл, став истинным
воплощением печального раздумья. Эти, равно как и многие другие глубокие
вещи сумел выговорить Тайбер в цикле "картин с цитатами" - вот
таким обернулся шутовской колпак раннего автопортрета.
Наконец - и это представляется мне чрезвычайно важным - для Тайбера красота
в сфере философии сочетается с красотой, как личной философией; вот еще
одно фундаментальное свойство, благодаря которому он выпадает из безграничного,
но по-своему узкого постмодернистского мира. Тайбер относится к живописи
с абсолютной, можно сказать - классической серьезностью. На фоне антиживописных
бунтов зрелого авангарда он выглядит консерватором, зато его картины притягивают
красотой, свободой и точностью высокого ремесла, уверенным живописным мастерством.
Более того, в конечном счете, вокруг этой оси вращается его бурно меняющаяся
художественная вселенная. Ибо "квазипостмодернистский" - вот какое
слово! - период был, как оказалось, всего лишь этапом его новейшей биографии.
Освобожденные - или порожденные - психологическим шоком творческие энергии
проявили и проявляют себя в постоянной взрывоподобной смене не только стилистических
форм, такое мы уже видели раньше, но в смене идей, концепций, принципов
живописного выражения. Поэтому творчество сегодняшнего Тайбера серийно -
нахлынувшая пластическая идея словно бы не вмещается в одну картину и требует
для своей реализации нескольких свободных вариантов - серия "с луной",
серия с контурными женскими торсами, короткая "донкихотская" серия,
серия "цветущих масок"… Для каждой из них выбран свой живописный
язык или комбинация языков - тайберовские живописные "билингвы"
и "трилингвы" - выбран не произвольно, но в силу непреложной внутренней
необходимсти, какою она заявила о себе в данную минуту.
Вот по нескольку слов об этих свободных "как будто бы сериях".
*
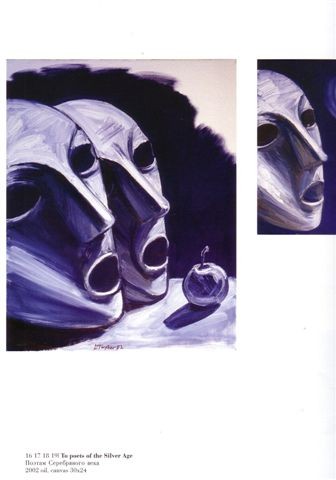 Маски проникли
в живопись Тайбера словно бы ненароком, тайком, едва заметно - в качестве
одного из атрибутов театральной игры. Затем, в недавнее время, мотив повел
себя агрессивно и занял на время всю авансцену. Привычная функция маски
- устройство тайны посредством сокрытия лица, будь то лицо прекрасной дамы
на маскараде или лицо террориста-убийцы. Маска - прародительница маскировки.
Но первоначальное назначение маски было другое: маска не скрывала, а трансформировала
человека. Изменяя вид, она меняла сущность: шаман, надевший маску, магическим
образом отождествлялся с обитающим в маске духом и обретал сверхнатуральную
силу. Маски греческого театра, ставшие эмблемой театрального искусства,
приводили разнообразие лиц к единому знаменателю сверхиндивидуального, всеобщего
типа - трагического или комического персонажа как мировой константы. В обоих
случаях мы имеем дело с властью видимости, которая способна менять реальность
или возводить ее к идеальным принципам. Вот этим-то свойством маски и воспользовался
живописец - творец видимостей по профессии и по призванию.
Маски проникли
в живопись Тайбера словно бы ненароком, тайком, едва заметно - в качестве
одного из атрибутов театральной игры. Затем, в недавнее время, мотив повел
себя агрессивно и занял на время всю авансцену. Привычная функция маски
- устройство тайны посредством сокрытия лица, будь то лицо прекрасной дамы
на маскараде или лицо террориста-убийцы. Маска - прародительница маскировки.
Но первоначальное назначение маски было другое: маска не скрывала, а трансформировала
человека. Изменяя вид, она меняла сущность: шаман, надевший маску, магическим
образом отождествлялся с обитающим в маске духом и обретал сверхнатуральную
силу. Маски греческого театра, ставшие эмблемой театрального искусства,
приводили разнообразие лиц к единому знаменателю сверхиндивидуального, всеобщего
типа - трагического или комического персонажа как мировой константы. В обоих
случаях мы имеем дело с властью видимости, которая способна менять реальность
или возводить ее к идеальным принципам. Вот этим-то свойством маски и воспользовался
живописец - творец видимостей по профессии и по призванию.
Его маски сведены в одну формулу, хотя ее вариации тоже имеют смысл. Это
формула безликости: чистый овал, правильные прорези глаз, антииндивидуальность,
антиличность. Некто или никто? Его маски замещают человека. Картины этой
серии - предложения без подлежащего: они состоят из сказуемых, скупых дополнений,
еще более скупых обстоятельств. Пьет кофе. Любуется цветком. Держит яблоко.
Пьет вино. Видит цветущую ветку. Целуются. Разглядывает отражение месяца
в миске с водой. Нет, его персонаж, безусловно, больше нуля, он очевидно
присутствует в мире картины, но он - действующее лицо без лица или - действующее
не лицо. Нельзя сказать, что в этих микропьесах из одной сцены вы чувствуете
себя уютно. Пропущенное подлежащее бывает человечно, очень человечно. У
этого, который видит отражение месяца, помятый костюм, пальцы правой руки
нервно загнуты, и затем - какой убогий и драматический в своей бедности
контакт с мирозданием... Любование распускающимися весенними цветами на
ветке трогательно. К тому же, мы говорим о живописи: когда в почти монохромной
картине внезапно вспыхивает не погашенное маской красочное пятно волос,
оно излучает живое тепло.
Но ситуация его (или ее) абсурдна: в маске не выпить вина или кофе, не поцеловаться,
а главное - не высказать себя. В маске невозможно жить.Отсюда неизбываемое
напряжение. Не навязана ли эта стандартизация лиц извне? Не приросла ли
маска к телу, как в старом японском фильме? А что если нейтрально-никакая
личина присвоена добровольно и носят ее, не снимая, по внутреннему влечению,
скрываясь или боясь разоблачения собственной безличности? Словом, в закрытости
таится неясная угроза, которая начинает звучать в полную силу, когда Тайбер
разворачивает своего квазиперсонажа - хочется сказать "лицом",
но лица нет, скажем - маской к нам. Две картины, которые мне кажутся кульминацией
серии - "Человек с маской" и "Сладкая жизнь" (обе 2002)
- практически лишены глагольного начала, тут и сказуемое трудно подобрать,
все выражено одной только пластикой: статично центрированной композицией,
самодовлеющей бесцельностью застывшего жеста, темной до черноты маской,
мрачно контрастирующей с белой рубахой и цветной бравурой натюрморта на
столе, - это в первой картине, и кровавой краснотой вскрытого арбуза, растекшейся
по одежде пустоглазого некто - во второй.
Если я верно понимаю, эта власть маски заключала в себе соблазны автономии
- и самовольное воображение Тайбера не замедлило реализовать такую возможность.
В нескольких картинах маска, подобно носу майора Ковалева или, лучше, тени
из сказки Андерсена, покидает лицо и начинает жить на свой страх и риск.
Ее самостоятельность манифестирована форматом: теперь маска занимает почти
все поле картины. Она хочет обрести независимое существование. Отчасти ей
это удается: будучи тенью лица, его бесплотным и нейтральным подобием, она
успешно симулирует его жизнь. Формы и отверстия активизируются. Она глядит
на луну или на грушу пустотой глазниц, ее раз и навсегда открытый рот покушается
с'есть яблоко. Ветка, продетая через дыру глаза, воспринимается как пытка.
Лежащая (хочется сказать - на спине, но у маски нет спины) маска, на которую
сыплются сухие листья, напоминает об умирании.
Это единая серия - одна и та же маска (или маски), одинаковый формат, общий
почти монохромный колорит. Наконец, пора обратить внимание и на название,
одинаковое у всех картин серии, - название, которое звучит как посвящение:
"Поэтам серебряного века".
Название картины не бывает нейтральным дополнением к видимому. Известно,
что художник мыслит образами и картина часто получает зримую форму, когда
он еще не знает, что она значит. Случается, что образ рождается до имени
и живет некоторое время анонимом. Мне самому приходилось, бывая в мастерских,
участвовать в крещении готовых, но безымянных картин. Но с той минуты, как
имя дано, оно становится активной частью художественного целого, элементом
двуязычного текста, направляющим наше восприятие. В названии, независимо
от его происхождения, нам слышится указующий голос автора. Переименовать
картину значит перестроить ее смыслы. Вот почему посвящение поэтам серебряного
века меняет дело. Сказать, что маска как самостоятельное действующее лицо
утрачивает в наших глазах часть своей мнимой силы, было бы неверно. Но ее
самодостаточное пластическое поведение окутывается метафорическим ореолом.
Маске возвращается ее утраченная было принадлежность к миру искусства и
искусственного, она оборачивается метафорой поэта, вернее, поэтического
"я", из которого соткана материя его стихов. Ее страсти и страдания
отсылают к судьбе русской поэзии и поэтов серебряного века. Вот когда мы
замечаем, что ветка, невероятным образом проросшая сквозь глазницу маски,
расцвела.
На знаю, закончены ли циклы, с Тайбером никогда ничего нельзя знать наперед.
Едва ли не с каждой сегодняшней страницей его творческой биографии приходится
переписывать предыдущие. Но пока, если угодно, мы можем увидеть эпилог "поэмы
масок" в картине "После спектакля". Тут маски окончательно
вернулись к своему назначению, на этот раз - уже исполненному, спектакль
окончен, инвентарь брошен, окружают его языки красочного пламени. Если если
желаете, можете вообразить, что это эхо отзвучавших только что сценических
бурь.
*
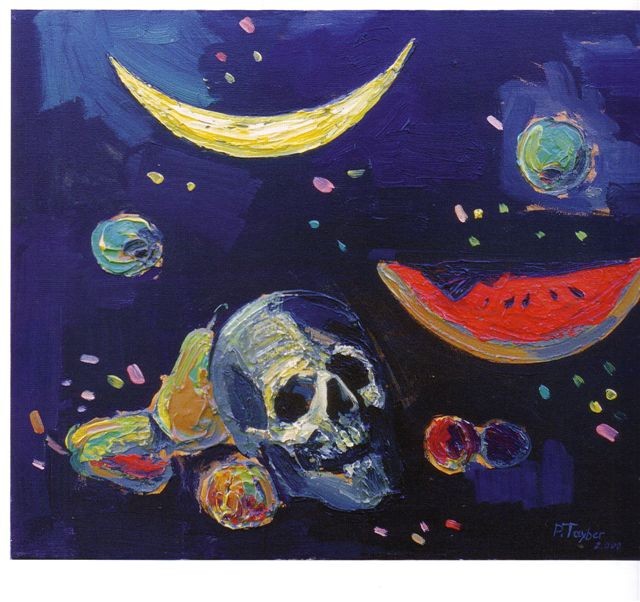 Другую серию
я бы назвал "Vanitas".
Другую серию
я бы назвал "Vanitas".
Тут художник ушел от маски, которая скрывает лицо, к тому безликому, что
"за лицом". Там лица еще нет, тут - уже нет. У Тайбера череп,
как и маска, - персональная интерпретация долгой традиции. В истории живописи
череп был и остается одним из наиболее устойчивых символов, чьи значения
мало меняются со временем. Родословная этих картин Тайбера восходит к двум
знатным предкам.
Один из них - позднесредневековые "пляски смерти", где наглый
скелет исполняет смертельные танцы с людьми всех классов и положений - от
императора и папы и до последнего бедняка; смерть - величайший из демократов,
перед нею все равны. У Тайбера играющий скелет появился как-бы не всерьез:
в историческом карнавале, разыгранном марионетками; рядом с иконописной
орантой и нарядной дамой откуда-то из XVI века. Смерть, одевшись невинной
пастушкой, напоминает о своем непременном присутствии в этом неподлинном
мире. ("Путешествие в прошлое", 1999) В другой картине - "Полнолуние"
(1999) - коронованная смерть наигрывает на скрипке в самом центре вселенского
хоровода вещей и образов. Малый формат и дробный ритм элементов делают зрелище
не вполне символическим: мало ли какое макабрическое зрелище может привидеться
в полнолуние...
Другой предок эттого ряда картин Тайбера - изявестный жанр натюрморта, где
посреди плодов земли и творений человеческих рук непременно присутствует
череп, напоминающий о бренности всего земного; такой натюрморт и получил
некогда латинское название "vanitas" - видимость, обман, "суета".
Тут Тайбер точно следует драматической завязке жанра: роскошь и изобилие
чувственной жизни каждый раз сталкиваются с жестоким напоминанием о конечности
земного бытия. Но, как всегда в подлинной живописи, смысл больше сюжета.
Вот одна из его "vanitas" - "Лунный натюрморт" (2000).
Интенсивность и звучность открытого цвета доводит витальную энергию предметного
мира до наивысшего напряжения. Череп написан так, что его пластика мощным
рельефом выступает вперед, отодвигая вглубь и приглушая остальные объемы.
Жутковатое освещение сообщает черепу двусмысленное выражение - то ли издевательский
оскал, то ли улыбка - того сорта, какие в старину называли "улыбкою
кадавра". Излюбленные Тайбером груши и яблоко плотно примыкают к черепу,
образуя архитектоническое целое - пирамидальное единство противоположностей.
Присутствие месяца в неопределенном пространстве картины, населенном цветными
точками, "как-будто-бы-звездами", придает зрелищу космическое
измерение. Но тут же, сбивая пафос, который мог бы показаться претенциозным,
живописец срифмовал с кривизной месяца кривизну арбузного среза; щепотка
аттической соли смягчила смертельную серьезность целого.
Таков, пожалуй, самый агрессивный из этого ряда натюрмортов. В других мотивы
яркого цветения чувственной жизни преобладают, более того, в них часты отзвуки
целого цикла картин, где это полнокровное цветение составляет главный предмет.
*
Внешне картины этого ряда связаны лейтмотивом обнаженного женского торса,
намеченного легким контуром или плотно вылепленного светотенью. Однажды
этот мотив был парадоксально превращен в вазы с букетами цветов. В картине
под обобщающим названием "Калифорния" он представлен метонимически
- бюстгальтером, полным плодов; веселая подмена сводит вместе разнородные
образы наполненности и изобилия.
Лейтмотив указывает на сквозную тему. Я еще раз хочу напомнить о непреднамеренной,
скорее спонтанной, нежели рассчитанной, связи циклов Тайбера с глубинными
культурными традициями. В этой связи особенно интересны картины, где сочным,
по большей части живописным натюрмортам сопоставлены графически намеченные
женские торсы: линейные очертания фигур намекают на иной, мене чувственный,
лишенный солидной субстанции способ их присутствия в универсуме картины.
Иначе говоря, они присутствуют здесь как божество-покровитель - несомненно,
хоть как бы и незримо. Конечно, Тайбер отсылает нашу память к образам праматери,
к бесчисленным женским божествам - Исиде, Инанне, Иштар, Деметре, Астарте,
Кибеле - и через них - к женскому порождающему и плодоносящему началу, источнику
жизни, цветения, изобилия.
К этому кругу образов принадлежит и картина, где нет призрачной наготы,
но сходным графическим приемом намечены три женских лица, представительствующие
от имени трех великих культур: древнеегипетский профиль, античный портрет
и лицо рембрандтовской Вирсавии, написанной с возлюбленной Хендрикье Стоффельс.
("19 декабря", 2001). Три лика женственности, как воспоминание,
снова сопоставлены с вполне чувственными, окруженными вихревым кружением
темпраментных тайберовских мазков, половинками яблока. Не знаю, представляет
ли это яблоко еще один, отсутствующий в картине, образ вечной и порождающей
женственности - Еву...
Перечень близких к этой группе картин может быть легко продолжен - цветы
и плоды земли составляют самую светлую и жизнеутверждающую сторону живописи
Тайбера.
*
В многоликом творчестве Тайбера последних лет мы можем различить два принципа,
поставленные в напряженное диалогическое отношение друг к другу. - напряженное
до той степени, когда каждый из них - по временам - обнаруживает склонность
к автономной, монологической позиции. Принцип символической игры с культурными
кодами нередко отступает на второй план ради довлеющих себе собственно зрительных
ценностей. Конечно, в "Дон Кихоте" и ему подобных вещах свободно
играет дух "трансцендентальной буффонады". Но во многих вещах
художник склоняется в пользу чистой визуальной идиоматики. Неизменной, вынесенной
за скобки постоянной остается преданность самой живописи в ее классическом
понимании - как работы красками и фактурами на плоскости холста с целью
создания эстетически значимого целого.
Недавно, в конце минувшего года, случилось то, чего следовало ожидать: Тайбер
написал целую серию абстрактных картин. Абстрактные мазки, фактуры, цветовые
пятна, рельефы давно уже были существенной составной, хотя и подчиненной
частью его картин, но нередко прорывались на волю - как протуберанцы его
живописного темперамента. Теперь они дождались своего часа.
У этого рода есть два названия - живопись абстрактная или живопись беспредметная.
Художник серьезно возражает против того, чтобы называть его картины беспредметными,
и он прав. То, что он делает, сохраняет зависимость от предметного мира.
Его формы и краски абстрагированы из реальности, т.е. обобщены до возможного
и нужного художнику в каждом случае предела. Тогда можно в буквальном смысле
слова увидеть идеи вещей: не удаляющася дорога, но удаление, не ветви, а
ветвление, не растения, а рост, не арлекины, а арлекинада, не залитые летним
солнцем дома, а залитость солнцем, не меланхолический паяц, а сама меланхолия...
При этом парадоксальная природа искусства живописи предстает перед нами
в своем наивысшем напряжении. В конечном счете, любая картина, есть единство
двух несоединимых начал - плоскости, покрытой в определенных порядках красочными
пятнами и линиями, и иллюзорного образа некой грани внеположного картине
мира. Их можно разорвать. ХХ век испытал все возможности: вместо изображения
вещи зрителю уже предлагали сами вещи, вместо живописной иллюзии - чистые
красочные поверхности. В этом была своя логика. Тем не менее, интереснейшие
события случаются там, где два начала разыгрывают бесконечную драму картины
как вещи и картины как иллюзии. Так вот, чем мощнее абстракция реальности,
тем наглядней и ощутимей все то, из чего сделана живопись. Эта поляризация
прекрасно видна у Тайбера: мастер хорошо знает, как и из чего делают картины.
Смотрите: прикосновение кисти, напитанной краской оставляет на холсте след
в виде мазка, мазки имеют характер, они могут быть спокойными, динамичными,
нервными, легкими, тяжеловесными, они могут быть заглаженными или густыми,
толстыми, рельефными, будучи положены рядом друг с другом, они вступают
в диалогические отношения, все вместе они образуют римическую структуру
картины, к тому же, не забудем главное - они цветные, в зависимости от своих
хроматических качеств мазок то выступают вперед, то уходят в глубину, и,
наконец, самое главное из них составляются цветовые гармонии и диссонансы...
Весь синтаксис живописного искусства представлен нам в своей откровенной
наготе - и именно через него возможно достигнуть той степени обобщения,
которая отсылает нас к идеям вещей и к сгусткам душевных состояний. Художественная
абстракция - живая, а синтаксис является нам в виде текста - этим я хочу
сказать, что трепещущие, движущиеся мазки, колористические созвучия, магическая
полифония цвета делают каждую из этих картин эстетическим событием.
Не случайно в автопортрете 2001 г. художник представил себя каторжником,
мучеником палитры.
*
Но вот еще один автопортрет, совсем недавний. Там происходят следующие вещи.
Утром, едва приняв душ, еще не одевшись, художник приступает к делу. Он
разыгрывает шахматную партию с самим собой. Шахматная доска отчасти похожа
на настоящую, на нее нанесены ровно 64 клетки, в некоторых местах черные
и белые поля чередуются в правильном порядке. Но это всего лишь симуляция.
Часть доски занимают сплошь белые клетки, предоставляя полную, кэрроловскую
свободу играющему. Фигуры могут двигаться как и куда угодно. Правда, фигур
тоже нет, игрок сосредоточенно переставляет пустоту. Свобода кажется абсолютной.
Но нет: просто, играя воображаемыми фигурами на мнимо-шахматной доске (ее
частичная правильность только напоминает об утрате правильности), он может
принимать какие угодно правила и тут же их отменять. Тем самым он присваивает
себе право играть с самой игрой.
Пребывая в веселом царстве игры и видимости, как назвал это Шиллер, он сам
невесел. Он чрезычайно серьезен, этот мастер игры, он делает важное дело.
Он не знает, что еще Кант когда-то определил главное качество эстетического
предмета как целесообразность без цели, но интуитивно догадывается об этом.
Иначе говоря, он не знает, зачем он это делает, но не делать не может. Кантов
парадокс предстает перед ним без философских драпировок, просто как абсурд
жизненной ситуации.
... Да, менее всего можно представить Тайбера в виде отвлеченного философа
и грамматика. Еще одна, главная антиномия его творчества в том, что в его
картинах интеллектуальное начало парадоксально проявляет себя через спонтанный
творческий импульс, который в конечном счете играет решающую роль. Поэтому,
сквозь видимое разнообразие сюжетов, подходов, стилистических особенностей
его картин, т.е. - сквозь игру с правилами игры, просвечивает об'единяющее
их качество: скрытый, очищенный от фактической, событийной скорлупы автобиографизм
или, если угодно, скрытая исповедальность.
В некотором смысле Павел Тайбер - из авангардистов поставангардистской поры.
Он нарушает ее неписаные, но тщательно соблюдаемые табу: он делает свою
живопись личностной, страстной, человечной, эстетически значимой.
СПРАВКА
Павел Тайбер, живописец, профессиональное образование
получил в Харьковском Художественно-промышленном Институте; звание заслуженного
художника Украины он получил тогда, когда оно утратило советский привкус
- в 1992 г. Живет в Калифорнии с 1995 года. Работы находятся в Украинском
художественном музее в Киеве, в Киевском музее русского искусства; в художественных
музеях Харькова, Горловки, Сeвастополя, Сумском, Мелитопольском имени А.Тышлера,
Музее кукол им. Образцова (Москва) и др.; в частных собраниях на Украине,
в Германии, Израиле, Испании, Канаде, США, Франции, Швеции; участвует в
выставках начиная с 1966 г.; имел 17 персональных выставок, в т.ч. - в Швеции,
США и др., за время пребывания в Калифорнии имел 5 персональных выставoк;
групповые выставки - в Берлине, Варшаве, Москве, Мюнхене, Нью Йорке, Познани,
Тель Авивe и др.
В 1992 г. в Калифорнии получил Премию владельцев галерей ("Marchands
Choice").
Обсудить этот текст можно здесь